История и политология
InapoiГагаузы
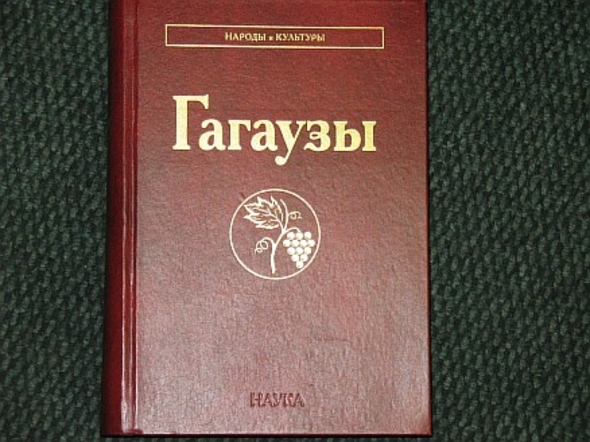
В 2000 году я и зав. Отделом гагаузоведения АН РМ Л. С. Чимпоеш напросились на встречу с тогдашним башканом Гагаузии Д. Г. Кройтором. Мы пришли к нему с запиской «По вопросу написания истории гагаузского народа». В ней предусматривалось три этапа работы над темой. Первый должен был завершиться изданием сборника «по узловым проблемам истории и культуры гагаузского народа», включая и «белые пятна». На втором этапе мыслилось выйти на издание научно-популярной книги по данной теме. И лишь на третьем этапе планировалось написание монографии в 3-х томах.
Башкан обещал подумать над реализацией идеи «Записки», но на этой ноте все и закончилось. Глядя со стороны, можно было заметить, как тогда главы Гагаузии пользовались плодами интеллектуального труда гагаузской национальной элиты, выступившей в качестве коллективного идеолога гагаузской этнической, этнокультурной и этнополитической идентичности, и подвигом гагаузского народа, боровшегося за свои автономные права в составе Республики Молдова. Но за достижения в конце прошлого столетия надо продолжать бороться, единая национальная идеология гагаузов по многим параметрам еще до конца не разработана и она не стала частью этнопсихологи гагаузского народа. Гагаузским этническим идеологам на постсоветском пространстве предстоит проделать большую и кропотливую работу, чтобы донести до своих соплеменников – в автономии и за ее пределами в Молдове – необходимость развивать и защищать свою идентичность во всем ее многообразии.
Сама же постановка проблемы в начале нулевых годов XXI века была актуальной и своевременной. И ее реализация легла на плечи московского этнолога, уроженца Чадыр-Лунги М. Н. Губогло. Независимо от меня и Л. С. Чимпоеш, Михаил Николаевич также пришел к выводу о необходимости научной разработки проблем гагаузоведения. Его местоположение в Москве и связи в планетарном этнологическом мире, а также осознанное внутреннее чувство быть полезным своему народу, подвигли его взяться за реализацию этой сверхсложной научной задачи. Десять томов сборников статей «Курсом развивающейся Молдовы», вышедших в Москве под его общей редакцией, а также его монографии «Именем языка» и «Русский язык в этнополитической истории гагаузов», как и многочисленные статьи по этнографии и этнологии гагаузов, стали весомым научным фундаментом, на котором покоится коллективная монография «Гагаузы».
Следует подчеркнуть, что кроме него в разработке научных проблем гагаузоведения самое активное участие приняло молодое поколение ученых и исследователей гагаузов Молдовы: Л. Чимпоеш, Д. Никогло, В. Сырф, Е. Квилинкова, Е. Сорочяну и другие. Кроме того, в
Укажем также, что «Гагаузы» – это вторая в московской серии книг «Народы и культуры» (первая – «Молдаване», опубликована в
Коллективная монография «Гагаузы», как и «Молдаване», структурно разбита на части, главы и параграфы. Помимо этого, их еще объединяет один из ответственных редакторов (М. Н. Губогло) и несколько соавторов – тот же М. Н. Губогло, а также И. А. Субботина, Л. В. Остапенко.
Имея еще рад общих черт, обусловленных требованиями, которые предъявляются к самой серии «Народы и культуры», тем не менее, обе монографии, «Молдаване» и «Гагаузы» отличаются, и не только по предмету исследования. Этому есть объяснение, в том числе научно-исторического и субъективного характера.
Если говорить о достоинствах книги, то следует, прежде всего, сказать, что М. Н. Губогло, как ответственному редактору монографии «Гагаузы» и одному из главных ее соавторов в целом удалось провести на ее страницах гипотезу о тюркском кумано-огузско-печенежском происхождении гагаузов, спрятав ее за кажущейся туманной формулировкой «вероятные предки гагаузов». Правда, сделал он это – обстоятельства вынуждали – весьма своеобразно: в споре с Ф. А. Ангели, который, в общем-то, стоит на этих же позициях; в дискуссии с болгарским ученым Г. Атанасовым, который отстаивает куманскую гипотезу происхождения гагаузов; в раскрытии им этнической истории гагаузов, запечатленной в их этнографической культовой системе (культ предков, культ волка, культ петуха, культ судьбы, культ земли и хлеба, культ коня) и в их соционормативной культуре (общественное мнение, хору, ярмарки, курбан, гостеприимство). Можно соглашаться с автором или не соглашаться, но он последовательно и настойчиво отстаивает свое видение происхождения гагаузов, их этническую историю и этнографическую специфику. Вместе с тем, М. Н. Губогло, признает, что он придерживается одной из гипотез этногенеза гагаузов, но видит ее ограниченность и недостатки, как и ограниченность, и недостатки, присущие другим его гипотезам. Он соглашается с мнением других ученых в том, что научное единство и согласие по этой проблеме может быть найдено через преодоления крайностей всех этих гипотез и при комплексном исследовании этногенеза гагаузов, с подключением инструментария множества научных дисциплин. И автор не только это декларирует, но уже признает присутствие и не тюркского компонента в этногенезе и этнической истории гагаузов.
Этническая история тюркоязычного православного населения, ныне известного как гагаузы, которые и являются объектом исследования, раскрывается в книге этнографическими, языковыми и демографическими сюжетами. Они составляют ее основу во всех четырех частей монографии. В первой ее части этническая история гагаузов рассматривается в 3-й – 5-й главах. Их авторы освящают такие ключевые вопросы гагаузской идентичности, как происхождение и строй гагаузского языка, диалектные формы его существования, современные языковые ситуации, формирование самосознания гагаузов, динамика численности гагаузов и демографические процессы среди них, а также географическое расселение гагаузов в России, юго-восточной Европе и на Балканах.
Во второй части коллективной монографии этническая история гагаузов рассматривается как система жизнеобеспечения (главы 6 – 9). Это земледелие, животноводство и промыслы, посредством которых они обеспечивали свое существование на земле. Это их поселения, усадьба и жилища, где протекал жизненный цикл каждого поколения по наследству от дедов и отцов к детям и внукам. В категорию жизнеобеспечения входит питание и одежда гагаузов в их специфической этнографической традиции.
В третьей части книги этническая история гагаузов рассматривается как система установившихся родственных отношений и функционирующей соционормативной культуры и традиционной обрядности (главы 9 и 10).
Наконец, четвертая часть книги посвящена духовной культуре и народным знаниям гагаузов, а именно устному народному творчеству (дастанный эпос, поэтическое творчество и песенно-инструментальное творчество) и народно-медицинской практике (глава 14).
Все указанные компоненты материальной и духовной культуры присутствуют в этнической истории каждого народа. Все дело в специфике их проявления, в хронологической последовательности их выстраивания. Применительно к этнической истории гагаузов это выражалось – в наиболее обобщенной форме по отношению к бессарабским гагаузам – в присутствии трех пластов, наслоенных один на другой, в материальной и духовной их культуре. Если взять систему жизнеобеспечения бессарабских гагаузов, то их этническая история проявлялась в том, что в добалканскую историю их «воображаемых предков» главную роль играло животноводство. Балканский период их истории характерен переходом на оседлый образ жизни и подключением земледелия в их жизнеобеспечении. А бессарабский цикл их истории представляет собой перевод животноводческо-земледельческой системы хозяйствования в земледельческо-животноводческую, их эволюцию от экстенсивного к интенсивному этапу развития.
Указанные три периода этнической истории гагаузов Буджака – добалканский, балканский и бессарабский – хорошо прослеживаются в монографии в системе их питания, языке (диалекты вулканештский и комратско-чадыр-лунгский), кровно-родственной практике. Но бессарабский этап этнической истории гагаузов характерен и тем, что в их этногенезе вливаются новые этнические компоненты (русские, украинцы, молдаване), отсутствующие в балканском периоде их этнической истории. То есть, этническое смешение у них здесь стало более обширным, численно более значимым, что особенно проявилось после
Демографический компонент коллективной монографии «Гагаузы» заслуживает особого внимания. В положительном ракурсе он решен на статистическом материале, начиная с Всероссийской переписи населения
Отмечая высокое качество параграфа А. И. Субботиной, его научный фундамент и академический стиль изложения, приходится сожалеть о том, что предыдущий параграф монографии, на который она должна была бы опираться или отталкиваться от него, не отвечает этим профессиональным критериям.
Коллективная монография «Гагаузы» – это первый обобщающий труд в таком содержательном этнологическом формате. Часть его авторов в виду своей научной молодости впервые участвуют в написании такой работы, отличающейся от индивидуальной монографии или научной статьи. Коллективный обобщающий труд требует от его авторов не только умения освещать «белые пятна» истории и культуры, но и знание всей литературы по теме, особенности трактовки в ней отдельных аспектов проблемы и способность отобразить в нем это многообразие научных открытий и мыслей предшественников. Поэтому свою задачу рецензент видит как в том, чтобы публично отметить плюсы этого первого коллективного опыта и поздравить его ответственных редакторов и авторский коллектив за смелое решение и его осуществление, так и в том, чтобы указать на его недостатки во имя того, чтобы в последующих трудах их можно было избежать. А то, что новые коллективные и обобщающие труды по истории и культуре гагаузов последуют вскоре, не приходится сомневаться.
Общеизвестно, что православные тюркоязычные переселенцы из-за Дуная сформировали в степном Буджаке в XIX – XX вв. гагаузскую нацию. Этому способствовало здесь: благоприятное политическое положение края после 181ё2 г., православная церковно-религиозная атмосфера духовного развития гагаузов, сохранение их языковой специфики, толерантные межэтнические отношения между полиэтническим населением края, наконец, этнографическая идентичность или близость традиций, обычаев, обрядов, быта и традиционной культуры у гагаузов и болгар, гагаузов и молдаван, гагаузов и восточных славян. Гагаузская особенность, ее становление, не могла сохраниться, развиваться и укрепляться в агрессивной этнической, этнокультурной и другой конфессиональной среде. Поэтому их идентичность это не только результат внутреннего ее становления, но благоприятные внешние факторы. В монографии «Молдаване» эта взаимосвязь внутренних и внешних процессов, «своего» и «чужого» более отчетливо прослежена, чем в коллективном труде «Гагаузы».
Недостатки монографии в контексте ее этнологической реализации я группирую в три разряда: организационные (подбор авторского коллектива), научно-организационные (концепция, ее реализация) и авторские.
Организационные и научно-организационные недостатки монографии тесно переплетены, их трудно разделить. Можно даже сказать, что одни из них переходят в другие, а еще точнее, одни обусловлены другими. И причина этому была заложена при подборе авторского коллектива.
Будучи, за редким исключением, истинными учеными, отдельные авторы коллективного труда придерживаются разных взглядов на самую главную проблему гагаузоведения, на этногенез гагаузов. И это не могло не отразиться на содержании и качество монографии. Так, например, М. Н. Губогло и А. В. Шабашов в своих работах по-разному рассматривают проблему происхождение гагаузов. По идее Шабашов не мог быть членом авторского коллектива, но он – крупный специалист, издал еще в
«Пострадал» в ней и концептуальный багаж самого М. Н. Губогло. Как уже было сказано, он сторонник тюркской гипотезы происхождения гагаузов с тремя этническими компонентами: огузов, половцев (куманов) и печенегов (с. 68), добавляя в нем здесь еще и черных клобуков (с. 83–85). Но как организатор и ответственный редактор этой коллективной монографии он понимал, что, заложив открыто и безопиляционно в ее содержание эту гипотезу, он нарушит научную этику по отношению к другим авторам монографии, не разделяющие его мнение по этому вопросу. В конце концов, он растворил свое видение этногенеза гагаузов в романтическом стиле написанной второй главе книги «Вероятные предки гагаузов» и в разделе «Институты соционормативной культуры» 10-й главы. Однако гагаузский читатель не получил однозначного ответа в этой монографии на волнующий его вопрос: кто такие гагаузы, какие у них этнические корни? Кстати, чтобы не вступать в полемику с Ф. А. Ангели и Г. Атанасовым относительно гипотезы происхождения гагаузов, М. Н. Губогло критически рассматривает противоречия в их позициях, весьма изящно скрывая ответ на вопрос, кто же из них ему все же ближе: Г. Атанасов, отстаивающий лишь куманских предтеч гагаузов, или Ф. Ангели, ставящий огузский компонент в формировании гагаузов выше и весомее печенежского и половецкого (куманского) компонентов.
Из научно-организационных недостатков монографии «Гагаузы» отметим отсутствие единых принципов и подходов в написании глав и параграфов, в их структурной компоновке, в подаче историографии и источников по теме монографии. Это, конечно, сказывается на качестве монографии и на ее восприятие вдумчивым читателем, хотя и обеспечивает ей в большинстве представленных сюжетов высокий научный уровень.
Но монографии присущи и авторские просчеты. Так, некоторые параграфы монографии написаны не как обобщающие, опирающиеся на весь имеющийся историографический материал по рассматриваемому аспекту, а как авторская статья неисследованной или слабо изученной проблемы. К ним относятся, например, параграфы Е. Н. Квилинковой в 1-й и 3-й главах и параграф О. К. Радовой в 4-й главе первой части монографии («Этническая и политическая история гагаузов»).
Параграф О. К. Радовой назван «Переселенческое движение гагаузов в Южную Россию и Бессарабию в XVIII – первой половине XIX в.». Рецензент, к сожалению, не может дать ему сколько-нибудь приемлемую научную оценку.
Автор делает в тексте до 90 ссылок на работы около 20 авторов. На первый взгляд, есть, казалось бы, основание считать параграф обобщающим и отвечающим своему предназначению – переселенческому движению гагаузов в указанный период. На самом деле, это не так. Из 90 ссылок более 30 сделано на работы самого автора параграфа. Еще более 20 ссылок сделано на архивные (НА РМ) и опубликованные источники (сборник документов «Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского, сост. Е. М. Руссев и К. П. Крыжановская, и «Кишиневские епархиальные ведомости»). Из этого можно сделать вывод, что в параграфе отражена авторская точка зрения на переселение гагаузов из-за Дуная, которая изложена в ряде ее прежних публикаций практически в одинаковом текстовом оформлении. Использованием же архивных и опубликованных документов подчеркивается именно такой его характер и преследует цель убедить читателя, что проблема переселения гагаузов до О. К. Радовой не разработана в научной литературе. Так ли это?
В библиографическом указателе литературы И. Грека «Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. –
Автор не сумела этого сделать только потому, что считает, что гагаузский компонент в переселенческом движении сознательно упущен, или проигнорирован исследователями, и она поставила перед собой задачу решить эту научную проблему. На странице 145 монографии она, ссылаясь на статью И. И. Мещерюка 1953 года издания, обвиняет его в том, что он «не ставил своей целью рассматривать болгар и гагаузов отдельно, наоборот, он их объединял в один народ». (Это обвинение О. К. Радовой маститого ученого кочует из одной ее работы в другой без каких-либо словесных изменений).
Но буквально через два десятка строк (С. 146) автор, говоря о массовом переселении 1806–1812 гг., подчеркивает, что оно было гагаузским по своему составу, цитируя … ту же самую статью Мещерюка 1953 года: «Анализ фамилий представленного «Именного списка переселенцев с правой на левую сторону Дуная с
Рассуждение О. К. Радовой о дате появления этнонима гагаузы, якобы выявленный ею в архивохранилищах Турции в документах, относящихся к
Такая сумятица, вносимая О. К. Радовой, состоит в том, что она утверждает: в найденном ею документе
Остановимся еще на одном моменте в этом параграфе. Приведем цитату: «До окончательного переселения ногайцев на Молочные воды, в
Обратим внимание на еще одну деталь в параграфе О. К. Радовой, а именно: на соотношение материала, относящегося к названию параграфа, и материала, не имеющего к нему отношения. Весь параграф занимает с. 140–158. Из них, содержание 7 страниц выходит за хронологические и тематические рамки параграфа (рассуждения автора о греко-болгарской церковной распре
Не можем обойти вниманием и некоторые сюжеты монографии, автором которых выступает Е. Н. Квилинковой. Она, пожалуй, самая плодовитая в современной науке гагаузоведения, много пишет и много публикует. Ее потрясающая работоспособность, амбициозность, настойчивость и заряженность на выдачу научной продукции по слабо разработанным этнографическим проблемам гагаузского этноса заслуживают уважения. Вместе с тем, Елизавета Николаевна, в силу своего очень молодого для науки возраста, но уже имеющая ученую степень доктора хабилитат, как мне представляется, все же не покорила вершины научного Эвереста. На наш взгляд, некоторые ее сюжеты в монографии, не отвечают требованиям, предъявляемым к коллективным работам.
Возьмем для анализа только два ее параграфа: «Письменные источники по традиционной духовной культуре гагаузов» из 1-й и «Формирование самосознания гагаузов» из 3-й глав 1-й части монографии.
В первом из них, автор анализирует, главным образом, архивные документы, хранящиеся в Национальном архиве Республики Молдова, и публикации в Кишиневских епархиальных ведомостях. Но, во-первых, архивные документы не являются по своей природе письменными источниками, это – рукописные документы и материалы. К тому же Е. Н. Квилинкова анализирует только те архивные документы и материалы, которые она выявила, работая над исследованием этнографических проблем бессарабских гагаузов. А это – капля в море документальной базы по истории и культуре бессарабских гагаузов, хранящихся также в архивохранилищах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Измаила, Симферополя, Херсона, Запорожья, Бухареста, Брашова, Варны, Софии, не говоря уже об архивохранилищах Турции, все еще недоступных нашим ученым. Кроме того, автор дает сведения, выявленные в архивных делах, но не делает анализ архивных фондов (только перечисляет некоторые их них), в которых есть масса еще не выявленного материала по гагаузским проблемам.
Другое замечание по этому параграфу относится к характеристике письменного источника «Кишиневские епархиальные ведомости» (КЕВ). Историографический обзор предполагает обратить внимание читателя на то, какую информацию из него можно извлечь. Это своеобразная фотография источника-объекта. Елизавета Николаевна местами переходит на его исследовательский анализ, характерный для научной его интерпретации, а это уже накладывает на источник субъективное его восприятие автором (см. с. 48–50).
Вызывает недоумение также, почему автор включила в параграф лишь один письменный источник до
Но главный недостаток этого параграфа в другом. В нем основное внимание уделено а) отражению в источниках состояния религиозности гагаузов (в двух ее проявлениях, язычества и православия) и отношению священников к этому их религиозно-нравственному состоянию и б) отражению на страницах КЕВ завершающего этапа (конец XIX – начало XX в.) формирования гагаузской общности в Буджаке. В частности, автора интересует отражение на страницах КЕВ процесса принятия тюркоязычным населением Буджака этнонима «гагауз» и глоттонима «гагаузский язык». Однако и религиозность бессарабских гагаузов, и рост их этнического самосознания – это научные аспекты этногенеза и этнической истории гагаузов Буджака. И как бы ни был интересен этот сюжет сам по себе, но традиционная культура гагаузов, вынесенная в название параграфа – это нечто другое. Специфическая материальная и духовная культура гагаузов освещена во II – IV частях монографии. Следовательно, название параграфа не отвечает его содержанию. Следует подчеркнуть также, что виды преступлений среди гагаузов, обычно-правовые нормы в их традиционной жизни, практика взимания десятины, случаи кровосмешения и другие сюжеты, присутствующие в этом параграфе не имеют отношение к материальной и духовной культуре гагаузов Буджака, это, скорее всего, отступления от нее.
Другой параграф монографии, принадлежащий Е. Н. Квилинковой, – «Формирование самосознания гагаузов», – несомненно, представляет большой интерес. Прежде всего, насыщенностью архивных и литературных фактов по проблеме становления гагаузкой общности в Буджаке, которые и придают весомость анализу различных аспектов этого исторического процесса. Елизавета Николаевна, является одним из разработчиков этой научной проблемы и этим она вносит свой вклад в науку гагаузоведение. Однако она не единственный, кто исследует эту проблему, и не используя труды других ученых в своем исследовании, проявляет некорректность к ним. К тому же, сама обобщающая коллективная монография требует от автора использование всей известной ему опубликованной литературы, ее анализ и оценку. Возьмем, к примеру, вопрос о двойной идентичности гагаузов. По этой проблеме есть опубликованные статьи у М. Н. Губогло, И. Ф. Грека, они вышли в свет в 2006 – 2010 гг., автор о них знает, поэтому возникает вопрос, почему они не использованы при написании коллективной монографии и не все приведены в «Списке библиографии»? Сказать, что Е. Н. Квилинкова не знает, в чем состоит разница между индивидуальной научной статьей и научной коллективной монографии, было бы чрезмерным, поскольку она не только автор, но и вместе с М. Н. Губогло и ответственный ее редактор. Объяснение, почему она так поступила, мы находим в том, что, на наш взгляд, представленный ею в монографии параграф был написан в форме статьи задолго до появления идеи об издании такой коллективной работы, и она его в таком первоначальном виде его и включила. И она, статья, просто не вписывается в коллективную обобщающую монографию! Статьи могут быть включены и изданы в сборнике статей. А сборник статей и коллективная монография – это два разных вида издания научной продукции.
Другие недостатки этого параграфа обусловлены противоречивостью текста самой статьи, как следствие недостаточного проникновения автора в сути этой чрезвычайно сложной проблемы в ее историко-этническом аспекте. Подтвердим это тремя выдержками. «В современный период идентификация себя только с одним этносом характерна лишь для гагаузов Молдовы и юга Украины (Одесской области)» (с. 126). «Окончательное становление этнической идентичности гагаузов происходило на территории Бессарабии» (с. 127). «Формированию в психологии народа принципа двойной идентичности во многом способствовали существовавшие на Балканах исторические условия, в которых жили гагаузы» (с. 129). Как видим, автор в одном случае утверждает, что потомки тюркоязычных задунайских переселенцем только в Буджаке обрели этноним гагаузы, подтверждая, что именно здесь они окончательно сформировали свою идентичность, а в другом заявляет, что психология двойной самоидентификации имеет у гагаузов балканские исторические корни, обусловленные османским господством на полуострове. На лицо явное противоречие в позиции Е. Н. Квилинковой, которое она пытается спрятать за словом «окончательное» (а чуть ниже, на этой же 129-й странице, Е. Н. Квилинкова пишет о «сохранении принципа двойной идентификации у гагаузов Бессарабии»), вкладывая в него смысл завершения процесса, который имел свое начало на Балканах. Но Е. Н. Квилинкова смешивает два разных этнических и этнопсихологических процесса. Никто в научном мире не отрицает формирование на Балканах тюркоязычного православного населения, ныне известное как гагаузы. Но и никто до сих пор не доказал, что это православное тюркоязычное население изначально формировалось там также и с использованием этнонима гагаузы. Не только оно само себя тогда так не называло, но и «другие» его так не называли. Нет доказательств обратного. Поэтому, од
