История и политология
Назад«Молдаване»
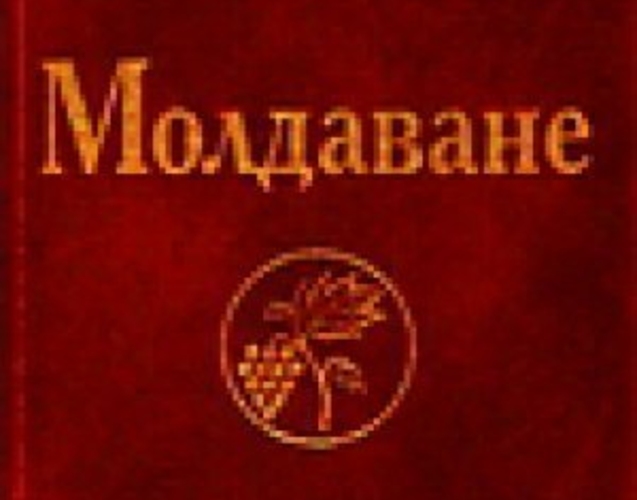
Монография «Молдаване» вышла в свет в Москве в
Огорчает тех, кто болеет и переживает за свою страну, кто не понимает, почему кишиневская власть не проявляет интереса к истории своего государства и истории государствообразующего молдавского этноса.
Возмущает же тех, кто увидел в написании и издании этой книги угрозу унионистской и реваншистской теории «один язык – один народ – одно государство». Для них ее появление в Москве – это «рука Москвы», препятствующая объединению двух румынских государств одно – Великую Румынию. Идеологи унионизма и его политические практики объявили устами Т. Бэсэску румынами не только все 4,5-миллионное население правобережной Молдовы и Приднестровья, но и жителей – далеко не румын – части территории соседней и дружественной нам Украины. Для них здесь нет ни гагаузов, ни болгар, ни украинцев, ни русских, ни евреев, ни даже цыган – все румыны и точка.
Смею утверждать, что в появлении этого обобщающего научного труда нет никакой московской руки. Не можем же мы считать таковой руку одного из его ответственных редакторов и авторов Михаила Николаевича Губогло, уроженца Чадыр-Лунги, гагауза по национальности, семья которого была репрессирована в
Не тянут на «руки Москвы» и авторы коллективной монографии. Они придерживаются разных политических взглядов, у них разное видение места Молдовы в современном мире и роли России в судьбе молдаван, это люди разного возраста и вследствие этого разного уровня профессионализма в подачи материала и в стиле его изложения. Но подавляющее большинство из них – это граждане Республики Молдова, с именем в научном мире, имеющие в своем научном багаже монографии и научные статьи, опубликованные как в нашей стране, так и за ее пределами. Они – не ремесленники-коньюктурщики, а честные и объективные ученые, что не означает, что их научные труды, в том числе и рецензируемый, не подлежат критическому анализу.
Само название «МОЛДАВАНЕ» говорит, что перед нами научный труд по этногенезу, этнографии, этнической и политической истории молдавской нации. Монография состоит из 4-х частей – история молдаван, система жизнеобеспечения, социальная организация и общественный быт молдаван, традиционное народное творчество и профессиональная культура – и 14 глав. Книга открывается Предисловием и Введением, а в конце ее приведены солидная библиография, – около 2тысяч использованных источников, – список архивохранилищ, документы из которых вошли в ткань монографии, и список принятых в книге сокращений.
Особую этническую, этнополитическую, этнокультурную и этнопсихологическую нагрузку в академическом издании несет «История молдаван». В первой части книги авторы (В. Н. Стати и М. Н .Губогло, Д. И. Хайдарлы, И. А. Субботина, П. М. Шорников) убедительно обосновали исторические, этнические и языковые особенности этногенеза, этнической истории молдаван и их языка, показали динамику молдавского народонаселения.и его расселение в Пруто-Днестровском междуречьи и на левобережье Днестра с XIV века и до наших дней и раскрыли сущность этнополитических процессов в Республике Молдова в постсоветский период ее истории.
Этногенез и этническая история молдаван освещаются с позиции специфики в сравнении с этногенезом и этнической историей валахов. Такой методологический подход объясняется тем, что бухарестские и кишиневские сторонники теории «одной румынской нации» сознательно смешивают в одну кучу этнические понятия волох, влах/валах и румын. Отсюда и выводят они единую румынскую нацию, якобы имеющую три специфических проявления на территории Валахии, Трансильвании и Молдавии. В. Н. Стати, опираясь на исследования известных румынских, молдавских и зарубежных ученых, утверждает, что восточнороманское население волохи является «основой образования валашского и молдавского этносов» и что «восточнороманская общность сформировалась исключительно севернее Дуная, на Карпатском плато» (стр. 48). Следовательно, автор не ставит знак равенства при толковании слов «волох» и «валах» и утверждает: от волохов произошли и молдаване и валахи. По отношении к этнониму волохи он использует термин протомолдаване, также известный в научном мире до него, что означает предшественники современных молдаван. В. Н. Стати на основе документов и исследовательской литературы отстаивает ту точку зрения, что молдавский этнос формировался на основе романизированных волохов «из северо-восточных областей внутрикарпатского ареала, из Марамуреша, откуда и пришли, большей частью, их предки, а также изучая общественную жизнь волохов из Галицкой Руси (северо-восточнее Днестра)» (стр. 48 – 49). Но не только из волохов. Общий его вывод относительно этногенеза молдаван сформулирован следующим образом: «Зарождение молдавского этнического самосознания, этнонима молдовень – результат последовательных многоступенчатых этнических трансформаций: романизация даков; становление восточных романцев (волохов); ассимиляция ими потомков свободных даков Карпато-Днестровских земель, симбиоз восточно карпатских романцев с восточными славянами (русинами)» (стр. 51). У него есть все основания утверждать не только о «несостоятельности доктрины «влах/валах = румыны» (стр. 54), но и отвергать всякие попытки ее распространения на этногенез молдавской нации (стр. 55).
Переходя к характеристике специфики формирования молдавского языка, В. Н. Стати вновь возвращается к этногенезу молдаван. Говоря о молдовенизации иноэтнического населения, способствующее увеличению численности молдаван, автор пишет: «… на протяжении феодальной эпохи славянские элементы (русины, сербы болгары), а также люди тюркского происхождения, которые проживали совместно с молдаванами на восточнокарпатском ареале, являются в той или иной мере «составными частями романского, молдавского этноса» (стр. 84). С этим утверждением нельзя не согласиться, если иметь в виду тему исследования – молдаване и их этническая история.
Тем не менее, необходимо отметить, что не везде, не все и не всегда иноэтническое население полностью поглощалось молдаванами. Не оспаривается восточнокарпатская география зарождения и формирования молдавского этноса, которая является одновременно и территорией этнического проживания. Но расширение территории молдавского княжества после 1359 года приводит к тому, что в его границы попадает иноэтническое население, которое проживало здесь до появления этнических молдаван. Следовательно, эта территория может рассматриваться как этническая территория проживания молдаван, но не как территория зарождения молдавского этноса. Думается, полиэтнический характер населения Пруто-Днестровского региона молдавского княжества можно объяснить, в том числе, этим причинно-следственным фактором. В этом отношении особый интерес представляет параграф «Расселение и численность молдаван до конца XIX века» (автор Д. И. Хайдарлы), в котором раздвигаются границы проживания молдаван, включая в них не только территорию молдавского государства, но и выходя за его пределы.
Для характеристики процесса расселения молдаван за пределы территории их этногенеза - первоначальные границы Молдавского княжества – автор использует нейтральные выражения: освоение молдавским населением Пруто-Днестровского междуречья; движение молдавского населения в районы, прилегавшие к Дунаю в его нижнем течении; продвижение молдавского населения в направлении центральной степной зоны Буджака; зоной раннего проникновения и компактного расселения молдавского населения явилась Буковина; зона обитания молдавского населения в Левобережье Днестра. Он придерживается нейтральной позиции в оценке географии демографических процессов молдаван в конкретно-исторических условиях их протекания, что не позволяет выявить, каким образом шло освоение, движение, продвижение, расселение, возникали зоны обитания. А это происходило путем захвата новых территорий, их дарения соседними государствами молдавскому княжеству, либо народной колонизацией с сопредельных ему территорий. В одном случае такие процессы рассматриваются как внутренняя миграция в рамках границ Молдавии, а в другом – как эмиграция населения за их пределами. Такое разграничение очень важно для понимания природы формирования этнодемографической специфики населения Республики Молдова в ее границах на 1 января 1990 года. Сказанное не является критикой позиции Д. И. Хайдарлы, а лишь напоминанием читателю о том, что он имеет дело с обобщающим трудом, объем которого не позволяет автору дать историографию вопроса, выразить свое отношение к позициям других авторов, писавших по этой проблеме и аргументировать, почему он выбирает другую оценочную терминологию.
Вместе с тем, Д. И. Хайдарлы сумел в очень сжатой форме отобразить более чем пятивековой процесс освоения молдавским этносом территорию Пруто-Днестровского междуречья и Левобережье Днестра, а также его проникновение в восточном направлении за пределами границ Республики Молдова. При этом автор с полным уважением к историческим и демографическим фактам показывает, в каких условиях проходил процесс движения молдаван на восток и каковы причины неравномерности этнического покрытия ими территории Республики Молдова. В одном случае – это засушливость Буджака, в другом – вытеснение молдаван с территории, сопредельной Буджаку, ногайскими татарами, в третьем – более раннее либо более интенсивное проникновение восточнославянского населения на Буковине, в северной зоне Республики Молдова.
Этнодемографическую географию молдаван автор рассматривает наряду таковой демографией других народов Молдовы: украинцев на севере, болгар, гагаузов, греков, немцев на юге Пруто-Днестровья, украинцев и русских в Приднестровье, а также армян, евреев, поляков. Они тоже «двигались», «продвигались», «расселялись» по всей этой территории, осваивая ее и создавая особые зоны обитания. Таким образом, на протяжении многих веков до
Этнодемографические процессы как в среде этнических молдаван в Бессарабии/МССР/СССР/РМ, так и в других этнических группах населения (русские, украинцы, евреи, болгары, немцы, гагаузы, поляки, цыгане, другие национальности), но уже только в рамках границ Бессарабии/МССР/РМ рассматриваются в «Динамике народонаселения в XX–XXI веках” (стр. 107–136). Ее автор – известный российский демограф И. А. Субботина, которая более 10 лет занимается изучением демографической истории бессарабских, советских, а теперь молдавско-украинских гагаузов. И здесь читателю открывается очень много интересного. Так, например, доля молдаван в общей численности населения Бессарабии составляла в
Румынская перепись
И.А. Субботина справедливо избегает делать исторические и геополитические экскурсы, поскольку это от нее не требуется, да к тому же проблема эта острая, дискуссионная и до конца еще не исследованная. Но внимательный читатель обратит внимание на другие стороны ее текста, не менее интересные и заставляющие задуматься. Так, численность молдавского населения в абсолютных цифрах в МССР увеличилась с 1 млн.736128 человек в
Если кому-то эти сравнения покажутся не корректными, то предлагаю сравнить статистические данные по молдаванам на основе переписей 1940 и 1959 годов, а также переписей 1989 и 2004 годов. Так вот, с учетом войны, голода и репрессий с 1940 по 1959 год молдавское население в республике увеличилось на 150438 человек, или ежегодно в среднем на 8357 человек. Это в 2,5 раза выше, чем ежегодный средний прирост молдаван на правом берегу Днестра между переписями 1989 и 2004 годов. Эта констатация дает основание утверждать: проблемы народонаселения молдаван в МССР в 1940 – 1959 гг. – это цветочки, а эти же проблемы 1989 – 2004 гг. – уже ягодки, да горькие и геноцидные. Их можно расценивать как целенаправленные действия кишиневских властей по уничтожению молдавского этноса как такового. И не только молдавского. Статистические данные, приведенные И. А. Субботиной в книге по всему населению правого берега Днестра, свидетельствуют о том, что этническое состояние русского, украинского, гагаузского, болгарского, еврейского населения Республики Молдова еще более плачевное, чем молдавского. Сказанное убеждает в том, какой содержательностью и каким богатством обладает материал автора данного параграфа и к каким глубоким и тревожным размышлением он приводит читателя. Особенно это относится к содержанию микропараграфов Изменения в рождаемости, Миграция, Трансформации в расселении, Молдаване в России и на Украине, Изменения в структуре населения Молдавии. Автор блестяще владеет статистическим материалом и на его основе приходит к очень серьезным этнодемографическим выводам (стр. 136). Они должны были бы заставить кишиневских политиков задуматься над тем, какую демографическую политику они проводят – если она у них вообще имеется – по отношению к молдавскому этносу, и рассчитана ли она на сохранение его этнической и политической идентичности и на уважение его прав на самоидентификацию, самовыражение и самоутверждение.
Именно с позиции этого сюжета анализируется содержание одного из важных параграфов 1-й части монографии, написанный М. Н. Губогло: «Языковая жизнь молдаван в постсоветский период». Ему предшествуют два других сюжета, автором которых является известный в Молдове ученый и общественный деятель В. Н. Стати. Они посвящены истории происхождения и строения молдавского языка, его письменности. Автор аргументировано, профессионально и правдиво показал как специфику – фонетическую, грамматическую, лексическую – молдавского языка (восточнославянское языковое присутствие), так и его общие с валашским (румынским) языком корни происхождения.
М. Н. Губогло освещает постсоветский период развития молдавского языка, подвергающийся агрессивной атаке идеологов «одного языка, одного народа, одного государства». Перепись населения
М. Н. Губогло видит два обстоятельства трансформации этнического самосознания среди молдаван, происшедшие между 1989 и 2004 годами. Одно из них – это отказ от прежней этнической идентичности (1,5 % молдаван изменили свою молдавскую идентичность на румынскую). Другое обстоятельство – отказ от своей языковой идентичности (18,8 % молдаван назвали свой родной молдавский язык румынским). В общей сложности за 15 лет, отделяющих последнюю советскую перепись населения от первой переписи в суверенной Молдове, каждый пятый молдаванин отказался от родного языка, либо от прежней этнической принадлежности. И если чуть более 73 тысяч молдаван, трансформировавшихся в румын, не является, по мнении автора, угрозой для молдавской этнической и культурной идентичности, то показатель 481 593 «румыноязычных молдаван в известной мере позволяет судить о начавшемся внутреннем расколе молдавской этнопсихологической жизни» (стр. 101). Это довольно осторожный вывод, но автор на нем не останавливается. Завершая параграф, он утверждает: признание полумиллионами молдаван румынского языка «родным вместо языка своей молдавской национальности… стало реальной основой раскола молдавского народа». И заключает: «…нельзя манипулировать внутренней и внешней историей самобытного языка самобытного народа во имя корыстных целей в борьбе за власть и за достижение неразделяемых преобладающим большинством народа целей и ценностей» (стр. 106). То есть, нельзя лишать молдаван их «этнонима «молдовень» и автоглоттонима «лимба молдовеняскэ», взяв «курс на «создание единой румынской нации» путем вхождения молдаван в состав соседнего государства» (стр. 105–106).
Рецензент разделяет точку зрения М. Н. Губогло, рассматривая борьбу вокруг названия молдавского языка как тактику и стратегию продавливания унионистами реваншистской идеологии «один язык, один народ, одно государство». Это политическая диверсия Бухареста и властей Кишинева против молдавской этнической, языковой, культурной и политической идентичности. Поэтому название «молдавский язык» – это не только и не столько историческая истина, решительно отстаиваемая в монографии В. Н. Стати, но и политическая реальность (78,4 % молдаван называют свой язык молдавским) и политическая проблема выстраивания межгосударственных отношений между суверенной Молдовой и суверенной Румынией. Проблема названия молдавского языка приобретет лингвистический характер только тогда, когда территориальные притязания Румынии на Республику Молдова будут сняты с политической повестки дня Бухареста и Кишинева, а геополитические игроки с Запада и Востока найдут способ взаимодействия, чтобы сохранить нашу страну на политическую карту юго-восточной Европы.
К этому параграфу М. Н. Губогло непосредственно примыкает по своему внутреннему духу пятая глава монографии, озаглавленная так: «Постсоветские этнополитические процессы». Ее автор – известный историк-молдавист и общественный деятель Республики Молдова П. М. Шорников. Он является автором монографии «Молдавская самобытность» (Тирасполь, 2007). Если М. Н. Губогло на основе языка цифр показал, что происходило с молдавской языковой и этнической идентичностью с
Но возникает вопрос, как элитарная мажоритарная молдавскость уживалась с румынскостью, проповедуемая тогда элитарным румынским меньшинством, и как последняя «управляла» национально-языковыми устремлениями молдаван, дезориентируя их? Ведь только на волне битвы за один государственный язык «на основе латинской графики» стало возможным введение в системе образования страны учебных предметов Румынский язык, Румынская литература, История румын.
Этнические молдовенисты, готовые защищать от румыноунионизма этническую, языковую и культурную идентичность молдаван были тогда (1989 – 1990 гг.) обеспокоены и грозящей из-за Прута опасностью их этнической и политической идентичности. Но они оказались в сокрушительном меньшинстве, список их фамилий почти исчерпывающе приведен П. М. Шорниковым (стр. 153–159). Их тревога, к сожалению, не дошла до самосознания масс этнических молдаван. Одурманенная толпа, преданная своими политическими и духовными поводырями, не смогла очистить семена истины от плевел мусора. Слишком поздно, на мой взгляд, пришло осознание того факта, что изменение графики молдавского языка и признание его идентичности румынскому языку обусловили утрату молдавским языком своей специфики и идентичности. И это не ее вина, а беда всей молдавской этнонации.
И именно тогда, когда румыноунионистская идеология и практика перестали маскироваться под «молдавскостью» произошло отрезвление и «молдавские традиционалисты» (этнические молдовенисты) начали оказывать «растущее воздействие на ход политических событий в Молдавии» и усилили научную защиту «молдавской самобытности». Эти сюжеты подробно освещены П. М. Шорниковым (стр. 165–176), но необходимо признать, что эти действия, особенно политического характера, сильно запоздали. Они уже не смогли остановить межэтническую разобщенность населения и территориальную дезинтеграцию страны.
В первой части рецензируемой монографии присутствует еще одно направление идентичности молдаван – «Молдавская государственность (стр. 69–79).. Православие (стр. 79–83) рассматривается как составная часть политического суверенитета Молдавского княжества. Этого сюжета недостаточно. Во-первых, хронологически параграф привязан лишь периоду истории средневековой Молдавии. (1359–1538 гг.). Во-вторых, Молдавское княжество сохранило свою идентичность, пусть и в ограниченной форме, и в османский период его истории, и после
К сожалению, эти периоды этнической, этнокультурной и политической истории молдавского народа не нашли должного отражения в монографии. А было бы интересно их рассмотреть, чтобы выявить: а) каков механизм воздействия формировавшегося молдавского этноса на создание молдавского государства; б) как отражалось расширение границ молдавского княжества на этническую концентрацию и этническое самочувствие молдаван; в) как сказывался внешнеполитический фактор на молдавскую этническую и политическую идентичность; г) как проявлялось межэтническое пограничье и межэтническая интерференция в молдавском этносе и в его политической идентичности. Это не праздные вопросы, они имеют непосредственное отношение к нынешнему сложнейшему периоду в истории молдавской политической идентичности. Средневековая Молдавия создавалась, расширялась, и существовала в статусе нации-государства. Заимствование молдаванами славянской графики и славянских слов (и не только славянских), литературное и культурно-религиозное влияние на них со стороны южных и восточных славян не препятствовали ассимиляции ими инородного элемента, попавшего в границы Молдавского княжества. Поэтому оно и было нацией-государством.
С
Столь большое внимание мы уделили первой части монографии в связи с тем, что она – концептуальная, да к тому же занимает более одной трети объема монографии. Остальные три ее части раскрывают, каким образом проявлялась молдавская этническая идентичность.
Система жизнеобеспечения освещает особенности среды обитания молдаван, традиционные занятия и орудия труда сельского жителя, систему земледелия, сельскохозяйственные культуры, структуру животноводства, характер садоводства, огородничества и виноградарства. Здесь рассмотрены также важнейшие стороны жизнеобеспечения молдаван: система питания и традиционная кухня, особенности поселений и жилищ, а также их одежда.
Социальная организация и общественный быт молдаван являются предметом рассмотрения в двух параграфах 3-й части книги: социальная организация молдавского общества, традиционная обрядность молдаван.
В первом из них анализируется соционормативная культура. Обычное право молдаван создавалось ими на протяжении многих веков, хотя автор характеризует его в основном на фактах XVIII – первой половине XIX веков. Нормы обычного права регулировали организацию публичных торгов с аукциона, вопросы семейно-брачных отношений (обычай приданого, семейная собственность), брачный возраст, право наследования, завещательное право. Применялись нормы обычного права и при определении меры гражданской и уголовной ответственности родителей и опекунов за проступки несовершеннолетних, при регулировании ряда уголовных и процессуальных правонарушений. По мере развития молдавского феодального общества обычное право уступало место писаным законам. Очень интересный материал параграфа, но он все же не дает полное представление о правовой жизни молдаван из-за отсутствия в книге сюжета о функционировании их сельской общины. Она регулировала правовые и иные отношения не только между крестьянами и землевладельцами, крестьянами и государством, но и между общинниками. Они регулировались на основе обычного права, которое имело свою специфику в царанском, резешском и других крестьянских сословиях Пруто-Днестровья и левобережья Днестра.
Особое внимание заслуживает второй параграф этой главы. Ее автор Л. В. Остапенко рассматривает отраслевую и социально-профессиональную структуру молдаван на богатом фактическом и статистическом материале, извлеченном из переписей населения, начиная с Первой всеобщей переписи населения Российской империи
Традиционная обрядность молдаван представлена в книге их календарными обычаями и обрядами, свадебной, родильной, похоронно-поминальной обрядность. Ее авторы, В. Чобану-Цуркану и М. Чокану, с фотографической точностью и насколько позволял объем издания описали специфику отражения молдавских традиций, обычаев и обрядов. Специфику, которую можно и должно отнести к традиционной культурной идентичности этнических молдаван. При всем том, что они во многом объясняются ортодоксальной православной религией, наложившей свою печать на традиции, обычаи и обряды всех православных народов Балкан и Восточной Европы, в обычаях, традициях и обрядах молдаван есть элементы, отличающие их от других, отмечаемых сопредельными с ними народами православного вероисповедания.
Последняя, четвертая, часть книги «Молдаване» освящает еще одну сторону молдавской идентичности – традиционное художественное творчество и профессиональную культуру.
Особое место здесь отведено молдавскому фольклору (стр. 396–410, автор – А. Хропотинский). Видимо, потому, что устное народное творчество способно наиболее ярко, вдохновенно, глубоко проникновенно и захватывающе передать особенность души того или иного народа. В молдавском фольклоре посредством только этому народу присущим именам, традиционным профессиям, национальной одежде, народной кухне навечно запечатлена поэтическая идентичность молдавского этноса. Фантастические Фэт-Фрумос и Иляна Косынзяна, героический «Штефан Водэ» и народный «Тобулток», балладные «Миорица» и «Мастер Маноле», лирическая «Дойна» и юмористический вид молдавской фольклорной лирики «Стригетуры» – все это составляет душу молдаванина, «переплетено с бытом, музыкальной культурой народа, с его трудом во всех сферах хозяйства» (стр. 408), и представляет «поэтический синтез самых знаменательных событий древней истории народа: покорение природы и создание семьи, вековые битвы за независимость» (стр. 404).
Для понимания молдавской духовной идентичности важное значение имеют сюжеты монографии, включенные в главы 13 «Хозяйственные и художественные промыслы» и 14 «Профессиональная культура». Искусство народного художественного промысла в гончарном деле, в обработке камня и дерева, в ткачестве и ковроделии, как и высокая профессиональная культура в архитектуре, художественной литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, хореографии, конечно же, имеют национальное содержание. Ему придают такой характер не только народные традиции, но и внутренний мир, этнопсихология их творцов. И авторы этих глав, известные в стране с
